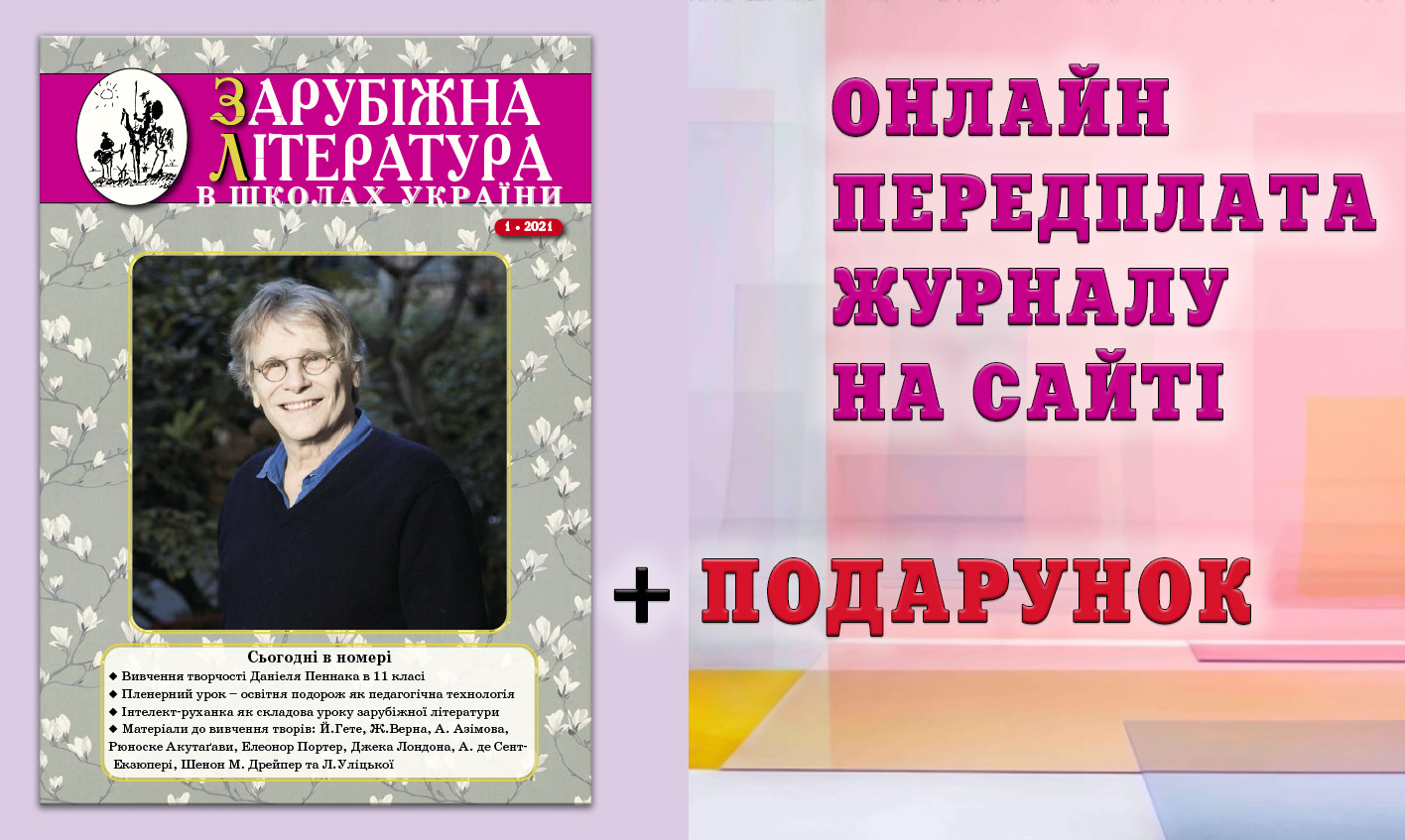БУЛГАКОВ ТАЙНЫЙ (Статья 2. Могут ли глаза скрывать истину?)
«О, глаза – значительная вещь. Вроде барометра». (М. Булгаков, «Собачье сердце»)
Литературный портрет, как известно, — важнейшая грань художественного образа. Портрет не только изображает внешность персонажа, но одновременно и характеризует его, в описании облика персонажа всегда содержится явная или скрытая его идейно-эмоциональная оценка. Система средств портретной характеристики литературного персонажа может в качестве доминирующих выдвигать на передний план изображения отдельные входящие в нее компоненты, к каковым не в последнюю очередь относится и идейный, и эмоциональный «ракурс» описания человеческих глаз.
Глаза составляют часть описания почти любого литературного портрета, так как определяют существенную деталь внешнего облика человека. Но если в большинстве случаев такое описание не преследует каких-либо специфических «сверхзадач», то в практике отдельных писателей глаза их персонажей наделяются «избыточными» полномочиями, самым непосредственным образом начинают влиять на уяснение особенностей поведения героя, угадывание способа его мироощущения, выявления всех черт его духовной ипостаси. К числу таких писателей следует отнести и М.Булгакова. Глаза действительно составляют самый, пожалуй, важный элемент поэтики литературного портрета у Булгакова. В этом нетрудно убедиться, — достаточно обратиться к описаниям внешности его героев. Этот булгаковский портретный феномен может быть прослежен с различной степенью его явленно-сти, уже начиная с самых ранних произведений, но в наибольшей мере он получает свое воплощение в «зрелых», масштабных по объему жанра вещах.
В романе «Жизнь господина де Мольера» его главный герой выводится в следующем портретном «обрамлении»: «Он среднего роста, сутуловат, со впалой грудью. На смуглом и скуластом лице широко расставлены глаза, подбородок острый, а нос широкий и плоский. Словом, он до крайности нехорош собой. Но глаза его примечательны. Я читаю в них странную всегдашнюю язвительную усмешку и в то же время какое-то вечное изумление перед окружающим миром. В глазах этих что-то сладострастное, а на самом дне их — затаенный недуг, какой-то червь, поверьте мне, сидит в этом двадцатилетнем человеке и уже теперь точит его». Характерная деталь: то же впечатление (исключительная роль глаз при восприятии облика человека) автор «прививает» и своим героям. Вот портрет 36-летнего Мольера, каким его запечатлевает другой персонаж этого романа: «Филипп Французский проверяет свое ощущение. Оно двойное: казалось бы, что больше всего ему должны понравиться улыбка и складки на лице, но ни в коем случае не глаза комедианта. Пожалуй, у него очень мрачные глаза.
И Филипп хочет настроить себя так, чтобы нравились складки на лице, но почему-то притягивают все-таки глаза».
Чем же прежде всего привлекали Булгакова человеческие глаза? Не последнюю роль сыграли здесь, по-видимому, и чисто профессиональные интересы (речь о врачебной практике Булгакова). Если проследить специфику изображения глаз человека в его ранних произведениях, прежде всего в «Записках юного врача», то не ускользает то обстоятельство, что данная деталь портрета персонажа дается скорее «глазами врача», или, вернее, с существенным участием этой формы видения: «Глаза синие, громаднейшие…, но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это страх, — ей нечем было дышать. «Она умрет через час», — подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось…»; «Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в тень потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу. Доктор Поляков умер». Вместе с тем, искусство видеть глаза человека, по Булгакову, это прежде всего искусство познания внутренней сущности человека, средоточием которой они являются. Эта связь была в свое время отмечена Гегелем, который писал: «…если мы спросим себя, в каком именно органе (человеческого тела. — В.Н.) проявляется вся душа как душа, то сразу ответим: в глазах. Душа концентрируется в глазах и не только видит посредством их, но также и видима в них».
Уже в «Собачьем сердце» (1925) этот мотив, проведенный в форме размышлений пса Шарика, заявляет о себе в полную силу: «О, глаза — значительная вещь. Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится». Шарик превосходным образом научился «читать» людские души по выражению глаз. В день операции пес заглянул в глаза доктора Борменталя: «Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно ушел в угол».
Многое можно прочесть в глазах булгаковских героев. Многое читают они и в глазах друг у друга.
При этом сам автор от себя ли, или устами своих героев не устает подчеркивать: ничто не ускользнет от опытного взгляда вашего собеседника, помните, что глаза в любом случае выдадут ваши тайные намерения и недосказанные слова. Любопытное в этом ряду исключение представляют глаза булгаковских героинь. В «Белой гвардии»: «Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил Господь Бог игрушку — женские глаза!.. Но куда ж им до глаз вахмистра». Да, действительно, глаза, например Юлии Марковны Рейсе, в которые всматривается Турбин, не идут ни в какое сравнение с глазами вахмистра Жилина. И прежде всего потому, что в женских не прочтешь истины: «Юлия Марковна отвечала и глядела так, что сам черт не разобрал бы правда ли это или нет»; «Кровь отливала, и глаза Юлии Марковны становились хрустальными. Интересно, что можно прочитать в хрустале? Ничего нельзя».
Следует отметить еще один аспект портретной характеристики булгаковского персонажа, связанный в своем оформлении с подчеркнутой ролью в обрисовке глаз. Дело в том, что портретная сторона художественного образа (не только применительно к Булгакову) — это не одно лишь описание черт лица персонажа в его, так сказать, статическом, единожды запечатленном виде. Портрет может и чаще всего «сопровождает» слово персонажа на протяжении всего действия художественного произведения, проявляется как указание на синхронное слову персонажа его телодвижение, жест или изменение мимики. Подобный словесно-портретный параллелизм может иметь различные функции: жест, телодвижение, мимика могут эмоционально комментировать слово, подтверждать его, но могут и не совпадать, расходиться со смыслом сопутствующего слова, сигнализируя таким образом о появлении в изображаемой ситуации некоего дополнительного, скрытого, то есть подтекстного смысла. В частности, глаза булгаковских персонажей в отдельных случаях вступают в противоречие со смыслом произносимых ими речей, служат средством воплощения в речевой материи художественного произведения информации, которую по тем или иным причинам герои вынуждены скрывать друг от друга.
В сцене разговора доктора Турбина и полковника Малышева в «Белой гвардии», где реализуется мотив обратного понимания, об истинном смысле произносимых его собеседником слов Турбин догадывается прежде всего по выражению и движению его глаз, на которые по ходу разговора в речи рассказчика обращается подчеркнутое внимание: «Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос…»; «Глазки полковника скользнули в сторону…»; «…полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз»; «Глазки полковника мгновенно вынырнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск», и, наконец, прямое указание на то, что у полковника
«глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил».
К этому же приему в его более тонкой и информативно насыщенной форме проведения Булгаков вернется, работая над евангельскими главами «Мастера и Маргариты». Прецедентом, дающим некоторый ключ к прочтению того, что осталось в этих главах между строк, служит замечание одного из булгаковских героев, сделанное в 15-й главе романа («Сон Никанора Ивановича») и касающееся замечательного свойства человеческих глаз. Вот этот пассаж: «Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значение человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть . истину, и весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все кончено. Она замечена, а вы пойманы!»
Анализируя разговор, который состоялся междуримским прокуратором Понтием Пилатом и начальником тайной службы Афранием в главе «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа», можно предположить, что глаза героев в этой ситуации принимают самое непосредственное участие в конструировании необходимой автору психологической предпосылки для создания подтекста. Внимание, уделенное Булгаковым глазам беседующих, позволяет установить, что пытаются скрыть друг от друга Пилат и Афраний.
Вкратце напомню, как разворачивались интересующие нас события. Понтий Пилат ожидает возвращения начальника тайной службы Афрания, который присутствовал при казни Иешуа Га-Ноцри. Возбужденному, потрясенному коварством Каифы Пилату необходимо, во-первых, выяснить подробности гибели Иешуа и, во-вторых, дать поручение Афранию отомстить Иуде из Кириафа, предавшему в руки синедриона бродячего проповедника. И то, и другое надлежит исполнить в деликатной, не оставляющей никаких улик на стороне Афрания форме. Как же это удается прокуратору? Попробуем проследить скрытую мотивировку действий Пилата и Афрания.
Разговору не случайно предшествует описание Булгаковым лица Афрания, как еще одно напоминание о том, что глаза здесь будут играть ключевую роль, неся в себе огромную смысловую нагрузку: «Основное, что определяло его лицо, это было, пожалуй, выражение добродушия, которое нарушали, впрочем, глаза, или, вернее, не глаза, а манера пришедшего глядеть на собеседника. Обычно маленькие глаза свои пришелец держал под прикрытыми, немного странноватыми, как будто припухшими, веками. Тогда в щелочках
этих глаз светилось незлобное лукавство. Надо полагать, что гость прокуратора был склонен к юмору. Но по временам, совершенно изгоняя поблескивающий этот юмор из щелочек, теперешний гость прокуратора широко открывал веки и взглядывал на своего собеседника внезапно и в упор, как будто с целью быстро разглядеть какое-то незаметное пятнышко на носу у собеседника. Это продолжалось одно мгновение, после чего веки опять опускались, суживались щелочками, и в них начинало светиться добродушие и лукавый ум».
Завязавшаяся беседа между прокуратором и начальником тайной службы протекает в нейтральной форме лишь до определенной точки своего развития. Стоит Пилату с вещей почти что посторонних и менее важных переключиться на волнующую его тему и спросить, не будет ли опасен освобожденный из-под стражи Варравван, как Афраний тут же настораживается. Это мгновение подтверждают его глаза: «Тут гость и послал свой, особенный взгляд в лицо прокуратора» (Ср. с более ранней редакцией «Тут гость и послал этот первый взгляд в щеку прокуратору»). Не для того ли, чтобы прочитать в его глазах истинный смысл вопроса? Однако, Пилат слишком опытный собеседник: он не будет смотреть в глаза человеку, способному одним взглядом разгадать его тайные мысли. Нет, он «скучающими глазами глядел вдаль, брезгливо сморщившись и созерцая часть города, лежащую у его ног и угасающую в предвечерье». «Тогда угас и взгляд гостя, и веки его опустились». Что это, как не завязка тонкой психологической дуэли между собеседниками, каждому из которых необходимо узнать от другого как можно больше, не сказав при этом ничего такого, что могло бы быть обращено во вред для себя? Пилат намеренно не смотрит в глаза своему собеседнику, и это подтверждают тексты черновых редакций романа: «Не в первый раз приходилось прокуратору видеть седого человечка, но всякий раз, как тот появлялся, прокуратор отсаживался подальше и, разговаривая, смотрел не на собеседника, а на ворону в окне». Разговор продолжается, и «закрытые» или «отведенные» глаза, резко брошенные, прожигающие насквозь взгляды, помогают понять не только то, как напряжены собеседники, но и смысл некоторых их слов, звучащих весьма и весьма двусмысленно.
Прокуратор осторожно выспрашивает своего гостя о последних минутах жизни казненного Иешуа Га-Ноцри. Теперь, в свою очередь, Афраний пытается утаить истину. Он закрывает глаза. И закрывает их потому, что — вспомним: «встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все кончено. Она замечена, а вы пойманы!» Афраний врет. Из главы 16-й «Казнь» мы узнаем мельчайшие подробности гибели Иешуа, неведомые Пилату, не присутствовавшему при казни. В частности и то, что он не отказывал-
ся от напитка, который по закону предлагается осужденным для облегчения их страданий, и то, что не говорил тех слов, которые припишет ему Афраний из желания, видимо, тайно укорить прокуратора за неправедный суд.
И опять-таки это помогают установить глаза Афрания.
« — А скажите, напиток им давали перед повешением на столбы?» — спрашивает Пилат у Афрания.
« — Да. Но он, — тут гость закрыл глаза, — отказался его выпить (Ср. с более ранней редакцией: « — Да. Но он, — тут гость метнул взгляд, — отказался его выпить»).
— Кто именно? — спросил Пилат.
— Простите, игемон! — воскликнул гость, — я не назвал? Га-Ноцри.
— Безумец! — сказал Пилат, почему-то гримасничая. Под левым глазом у него задергалась жилка, — умирать от ожогов солнца. Зачем же отказываться от того, что предлагается по закону? В каких выражениях он отказался?
— Он сказал, — опять закрывая глаза, ответил гость, — что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь».
Афраний, как видим, не уступает в скрытности своему собеседнику. Дважды соврав, он дважды закрывает глаза, которые в этот момент могут выдать его. Зато сам он добивается желаемого: мучительное нетерпение Пилата узнать как можно больше о казненном, скрываемое за напускным равнодушием, выдают его глаза.
Но разговор не окончен. Пока Пилат и его гость взаимно восхваляют друг друга, никакого напряжения в их беседе не чувствуется. Однако стоило прокуратору упомянуть имя Иуды из Ки-риафа, как «тут гость и послал прокуратору свой взгляд и тотчас, как полагается, угасил его». Пилат, движимый желанием отомстить за предательство Иешуа Иуде из Кириафа, тем не менее не может отдать приказ об этом Афранию в открытой форме. Никому нельзя доверять до конца в этом ненавидимом им городе. Приказ об убийстве Иуды должен прозвучать так, чтобы даже у его непосредственного исполнителя, начальника тайной службы, не осталось каких-либо улик, компрометирующих прокуратора.
«— Ах, так, так, так, так. — Тут прокуратор умолк, оглянулся, нет ли кого на балконе, и потом сказал тихо: — Так вот в чем дело — я получил сегодня сведения о том, что его (Иуду. — В.Н.) зарежут этой ночью.
Здесь гость не только метнул свой взгляд, но даже немного задержал его, а после этого ответил:
— Вы, прокуратор, слишком лестно отзывались обо мне. По-моему, я не заслуживаю вашего доклада (речь о лестной похвале действий Афрания, о которых Пилат намеревается сообщить в Рим. — В.Н.). У меня этих сведений нет.
— Вь! достойны высшей награды, — ответил прокуратор, — но сведения такие имеются».
Пилат, как кажется на первый взгляд, требует от Афрания совершенно противоположных задуманному действий: защитить Иуду из Кириафа от якобы готовящегося на его особу покушения. Но ведь недаром Булгаков так настойчиво обращает внимание читателя на особые свойства глаз Афрания. Знает о них и Пилат. И теперь он без боязни посмотрит в глаза своему собеседнику, уверенный, что ошибка не будет допущена, и Афраний поймет его именно так, как того хочется прокуратору. Тем более, что «здесь гость не только метнул свой взгляд на прокуратора, но даже немного задержал его…» Булгаков не укажет в тексте, что взгляды их пересеклись, но как же еще могло иначе рассеяться некоторое недоверие к прокуратору со стороны Афрания? Он понял все, и эта уверенность заключается в следующих словах Булгакова:» «Больше своих неожиданных взглядов начальник тайной службы на игемона не бросал и продолжал слушать его, прищурившись…» (Ср. с более ранней редакцией: «Три раза метал свой взор гость на прокуратора, но тот встречал его, не дрогнув»).
Хитроумная игра собеседников окончена. В ней не сказано было ни одного неосторожного, лишне-то слова ни с той, ни с другой стороны, но все, что требовалось узнать, было прочитано по глазам беседующих. О том, что этот, своего рода, «поединок глаз» отнюдь не случайность, не мимолетный плод вдохновения, а результат серьезного и тонко обдуманного замысла, свидетельствует тот любопытный факт, что в самых ранних черновых редакциях романа данный сюжетный ход отсутствует. В сцене беседы Пилата и начальника тайной стражи (в этой редакции он носит имя — Толмай) еще бушует гроза: «Все окрестности смешались в грозе. Легионеры на балконе натянули тент, и Пилат с Толмаем беседовали под вой дождя. Лица их изредка освещало трепетно, затем они погружались в тьму». Ср. с окончательным (последним по времени) вариантом, где разговору Пилата и Афрания предшествует замечание рассказчика: «Грозу сносило к мертвому морю. /…/ Светлело. В серой пелене, убегавшей на восток, появились синие окна». В некоторой связи с упомянутой сценой находится и другая — сцена разговора Пилата и Каи-фы после утверждения римским прокуратором смертного приговора Иешуа Га-Ноцри. Глаза в этой беседе также играют исключительно важную роль, но указание на них вводится только в окончательной редакции, в самой ранней редакции их роль вполне служебна.
Количество странностей и алогичностей в евангельских главах «Мастера и Маргариты» увеличивается едва ли не прямо пропорционально мере углубленности в текст внешнего содержания романа. Но чем далее, тем более роман готов преподнести своим читателям неожиданные «сюрпризы». Количество и острота вопросов, связанных с подтекстом произведения, достигнет своей критической отметки, когда мы попробуем задаться целью выяснить, что же в целом произошло с точки зрения Булгакова в Древней Иудее времен Пилата и Иисуса Христа. Итак, еще одна, и на этот раз еще более тонкая линия булгаковского подтекста.
Черговий номер
Новини
-
Вітаємо переможців конкурсу «Ми любимо зарубіжну літературу – 2021»
Шановні учасники, їхні керівники та вболівальники! Щиро вдячні вам за... -
Підсумки учнівського фотоконкурсу «Ми любимо зарубіжну літературу!»
Вітаємо переможців, усіх учасників фотоконкурсу та учителів! Усі конкурсні роботи... -
«Плаха» Чингіза Айтматова – пересторога й попередження
Автор: Дудка Світлана Михайлівна, учитель зарубіжної літератури і російської мови... -
Творчість Адама Міцкевича – апогей польського романтизму. Перебування в Росії й Україні. Цикл «Кримські сонети»
Автор: Литвин Ольга Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови...
Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"
Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”